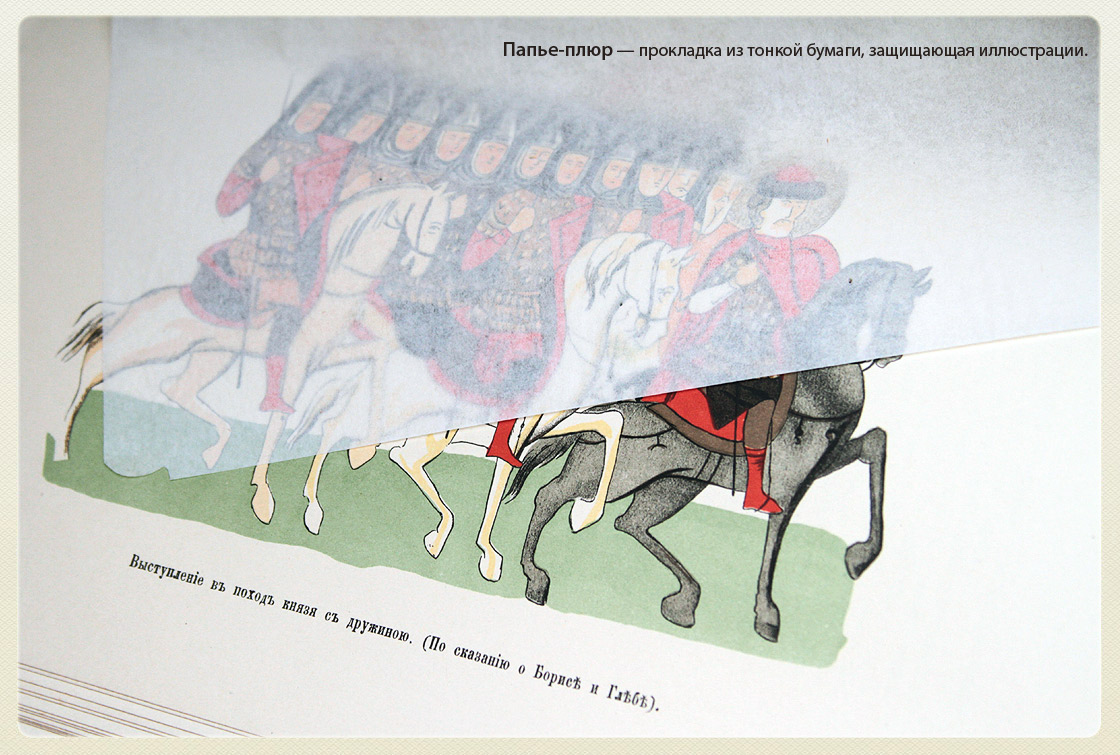21.12.2017 в 10:39
Пишет Sindani:URL записи21.12.2017 в 06:17Пишет terranovamia:
URL записичитать дальше
Каждый день любого человека обычно включает в себя еду и естественные отправления. Однако тема телесного низа табуирована, а потому гигиенические особенности быта того или иного времени редко известны широкой публике. Попробуем понять, как справлялись с зовом природы в разные эпохи.«Кошачий туалет» для фараона и другие древнейшие образцы Цивилизация начинается с канализации. Древнейшие туалетные сооружения, известные археологам, относятся к шумерской и хараппской цивилизациям. Им более 4,5 тысяч лет. Их обнаружили в Междуречье и на берегу Инда. Уже в те времена люди использовали воду для смыва нечистот. С помощью системы ям и канав отходы выводились за город.
Можно сказать, что шумеры и жители Мохенджо-Даро делят между собой первенство изобретения канализационных систем. Однако знать часто использовала и резные кресла со встроенными горшками. По слухам, запасники Британского музея хранят «трон» царицы Пуаби из Ура. Первые туалеты со сливом найдены в Кносском дворце на Крите. А древние египтяне использовали ящики с песком, на которые водружали каменные плиты с отверстиями.Античные клубы по интересам: публичные туалеты древних римлян В Древней Греции воспевались бои на горшках, а римляне подошли к туалетной теме с большим размахом. Латрины – общественные уборные – строили в великом множестве. Эти заведения выглядели как комнаты, по периметру которых располагались чаще каменные, реже – деревянные сиденья с отверстиями, похожими на замочные скважины. Скамьи располагались над канализацией. Нечистоты Рима смывались проточной водой из терм и по небольшому каналу соединялись с основной рекой сточных вод, громадной Cloaka Maxima, а затем попадали в Тибр.
Клоака, назначением которой был спуск грязи в реку, была посвящена этрусской богине Клоацине, хранительнице грязи и чистоты (имя ее видимо произошло от слова «cloare» – очищать). Позже был построен храм, посвященный уже изменившей имя и облик богине. Храм канализационной Венеры (Венеры Клоацины) был небольшим святилищем на Римском форуме, построенным в честь одушевленной реки нечистот, охранницы городского здоровья. Трехметровая клоака сохранилась до сих пор и используется как ливневая канализация.
Справляли нужду коллективно. Роль туалетной бумаги играли морские губки на палочках, которые окунали в желоб с водой, а затем промывали в уксусе. Общение не прерывалось. Разделения на женские и мужские комнаты не было. Известны туалеты на сорок и более посадочных мест. Можно сказать, что посещение латрин было формой развлечения граждан. Там, без отрыва от производства, порой заключались сделки, обсуждались важнейшие дела города, люди встречались, знакомились, любовались фресками и мозаиками. А чтобы мрамор сидений не охладил нежный филей, состоятельные граждане посылали специальных рабов, чьи зады работали грелками для хозяев.«Ласточкины гнезда» и другие гардеробы: средневековые нужники Увы, в средневековой Европе канализации не было. В замках строили специальные домики с дыркой в полу, похожие на скворечники, выступавшие из стен. Их называли «хранителями платья» – «гардеробами». Дело в том, что запах нечистот убивал насекомых. И в каменные стены вбивали крючки для одежды, чтобы избавиться от блох и моли. Продукты рыцарской жизнедеятельности летели сверху прямо на зевак.
В городах обходились ночными горшками, которые часто выливали прямо из окон на улицу.
Французское выражение «gardez l'eau» («остерегайтесь воды»), которое трижды кричали перед тем, как выплеснуть горшок, даже считают одной из версий происхождения слова «loo» – «уборная». Вторая версия относится к более позднему времени и возводится к термину «bourdaloue».Луи Бурдалу: человек, пирог и ночной горшок Поиск значения слова «бурдалу» в Сети выдает противоречивое. Грушево-миндальный пирог XVII века, иезуитский проповедник того же времени и необычный фарфоровый предмет, похожий на соусник.
«Король проповедников и проповедник королей», профессор риторики, философии и богословия Буржской академии Луи Бурдалу был известен огненным красноречием. Именно потому он был приглашен ко двору Людовика XIV в Версале восемь раз, тогда как по традиции одного и того же проповедника приглашали к королю не более трех раз. Современники писали, что этот оратор говорил ярко и понятно для любой аудитории, однако обличение грехов обычно длилось довольно долго. Настолько, что слушатели начинали задумываться совсем не о смысле речи, а о том, что делать с собственным мочевым пузырем. Так по легенде были изобретены бурдалу (или бурдалю) – женские утки.
Необходимость – мать изобретения. Представьте себе объемные каркасные юбки-панье XVIII века. А теперь подумайте о том, как сложно было даже пройти в двери (да, юбки были складными, но все равно громадными и неповоротливыми).
Нижнего белья женщины той эпохи не носили. Но все равно сходить в туалет в таких нарядах становилось почти невероятным делом. На помощь пришли бурдалу – небольшие женские горшки с анатомической выемкой. Их можно было доверить служанке, спрятать в рукаве или муфте, взять с собой в путешествие в специальном чехле. А затем с помощью прислуги стоя помочиться, не привлекая внимание публики. Даже когда модные юбки уменьшились в размерах, отказаться от такой практичной вещи было невозможно. «Дерзкие соусники» использовались еще в XIX веке.Унитазы от изобретения до массового производства Первый унитаз со сливом – творение поэта и инженера, сэра Джона Харрингтона, для Елизаветы I. Увы, в 1596 году в Лондоне не было ни водопровода, ни канализации, а у изделия под названием «Аякс» было немало недостатков. Изобретение не прижилось. И лишь через полторы сотни лет работа продолжилась: Александр Каммингс получил патент на ватерклозет («водяной затвор» – слив клапанного типа) в 1738 году. Еще несколько модификаций, и почти современная версия вида «дерни за веревочку» была сделана Томасом Крэппером.
И вот в 1883 году фаянсовая чаша под названием «Unitas» – «единство», «союз» была представлена на Лондонской международной выставке владельцем керамического завода Томасом Твайфордом. С золотой медали выставки и началось победное шествие унитазов по планете.
Сегодня ватерклозет – необходимый атрибут жилища и… музейный экспонат. Историей туалетов и горшков щедро делятся музеи Праги, Киева, Токио, Дели и южнокорейского Сувона.
Не менее странно сегодня выглядит история о том,
как рыцари в тяжелых доспехах ходили в туалет.
@темы: Сантехнически-гигиеническое