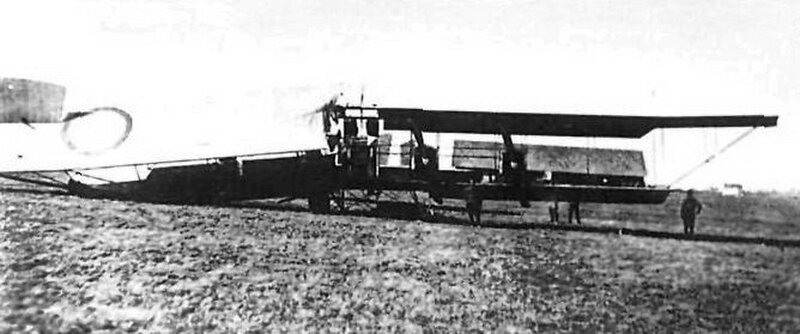Когда я писала роман "Когда закончится война", у меня в голове постоянно вертелась эта фраза: «тяжёлое впечатление оставляет ваш музей». Если вы читали роман Юрия Домбровского "Обезьяна приходит за своим черепом", вы, может быть, на нее и внимания не обратили. А у меня вот засела в мозгах. И влияло.
полная цитата из ДомбровскогоВ городе, на площади Принцессы Вильгельмины, уже около ста лет красовалось жёлтое двухэтажное приземистое здание. Его осенял круглый стеклянный купол, увенчанный зелёным флагом. На фронтоне горела всеми цветами жёлтая вывеска со змеями, огнедышащим драконом на цепи и отрубленной человеческой головой на блюде. Блюдо это держала в руке черноволосая, жгучая красавица, вся в тонких косичках, ожерельях, бусах и развевающихся покрывалах. Внизу золотым по чёрному блестела надпись: «Паноптикум госпожи Птифуа» и ещё ниже: «Дети до 16 лет не допускаются. Солдаты платят половину».
Госпожа Птифуа уже скоро тридцать лет как лежит на городском кладбище, под безносым мраморным ангелом. От неё остались только восковой бюст в вестибюле музея да бронзовая дощечка, на которой чётко обозначено: «1840-1912».
Теперь музеем владел сын её дочери — магистр философии господин Иоганн Келлер. Его часто можно было видеть в залах музея: ходит этакий небольшой господин с животиком, золотыми зубами и круглым румянцем на полных щеках, постоянно доволен всем, тих и уравновешен. В кругу своих знакомых, кроме несоответствия занятий — в самом деле, магистр философии и паноптикум! — он был ещё известен тем, что уже десятый год сидел над работой о Венерах: о Венере Милосской, Венере Meдицейской, Микенской, Таврической. И добро бы он горел на этой работе, считал её делом своей жизни, а то ведь ничего подобного, — он, кажется, сам не понимал толком, для чего и кому нужна его диссертация и чем он её кончит, писал — и всё!
— Так ведь про этих Венер-то и материалов столько не наберёшь, горевали его знакомые. — Чем же вы занимаетесь десять-то лет?
Господин Келлер смотрел в лицо собеседника ореховыми улыбающимися глазами, и лицо его светилось от тихого удовольствия.
— Ну да, ну да! — возражал он с каким-то даже подобием оживления. — И я так думал вначале: «Какая там литература?! Две брошюрки, одна монография — вот и всё, пожалуй». А как поднял книжные пласты, так знаете, что на меня полезло... Ну! Наибогатейший материал, на восьми языках! Даже на венгерском и то отыскался какой-то специальный альбом. А поначалу так действительно казалось, что нет ничего. Хотя, — говорил он, подумав, — ведь важен-то не сам материал, а мысли по поводу него. Вот написал же Лессинг книгу только об одной статуе, и книжка стала классической, её перевели на все языки мира. Вот и подумайте! — и в глазах его было столько тепла и иронии, столько добродушного издевательства и над Венерами, сколько бы их там ни было, и над всеми восемью языками, на которых о них написано столько перечитанной им ерунды, и над своей работой, которую он, видимо, ни в грош не ставил, что обыкновенно собеседник больше не расспрашивал и разговор на этом кончался. И о паноптикуме, хозяином которого он состоял вот уже двадцать лет, Келлер говорил с тем же мягким, добродушным презрением и задумчивостью.
— Конечно, говоря между нами, джентльменами, — задумчиво цедил он сквозь зубы, — всё это похабщина, — он кивал на свои манекены, — всем этим Ледам да обнажённым Цецилиям со стрелами в груди только и стоять бы в вестибюле дома терпимости, но есть публика, которой это нравится, она валом валит.
Он задумывался и продолжал:
— И вся беда, очевидно, в том, что людям без зверства никак не прожить. Самому убивать даже на войне, конечно, противно, — цивилизация мешает, — но посмотреть на это хотя бы одним глазком, со стороны, положительно необходимо. Есть такая классическая английская монография прошлого века — не читали? — «Убийство как изящное искусство». Вы понимаете, в чём пакость? Оказывается, установлено научно, что убийство, во-первых, искусство, а во-вторых, ещё и изящное искусство. Вот тут-то, наверное, и собака зарыта.
Слушатели, которые были поумнее, после этих объяснений переводили разговор на погоду, а дурачки восклицали:
— Позвольте, но вы же проповедуете безнравственность!
И тогда Келлер, тоже с видимым удовольствием и даже без своей обычной флегмы, подхватывал:
— Возможно, возможно! Вполне, вполне возможно! Я же вообще по натуре, очевидно, совершенно аморален. Вот влюблён во всякую красоту, в любую форму её — от тропической змеи до женщины. А ведь красота-то — она от дьявола! Это ещё богомилы, а до них Плотин очень убедительно доказывал, почитайте-ка!
Он говорил о своей аморальности, а жил монахом, у него не было ни жены, ни детей, ни даже как будто любовницы. Вот этот человек, как только в город вошли немцы, первый из всего города нарушил приказ командования о том, что все предприятия, в том числе зрелищные и увеселительные, должны работать по прежнему распорядку, и повесил на двери паноптикума блестящий пружинный замок.
— А что же могу теперь показать интересного? — спрашивал он. — У меня ведь ужасы восковые, раскрашенные — так кого я чем напугаю? Вон у моих мучениц и щёчки розовенькие, ресницы насурьмлены, даже проволока кое-где торчит, а тут, в десяти минутах ходьбы от моего музея, раскачиваются на проводе самые настоящие висельники с вывалившимися языками, и над ними вороны дерутся. Ну, совсем пятнадцатый век. Так кто же после них пойдёт смотреть моих куколок? Ведь это же профанация! Я так и скажу немцам: «Ничего не поделаешь, музей не выдержал конкуренции».
— А что они вам ответят? — спрашивали его.
Он разводил руками и тоже спрашивал:
— А зачем им отвечать? Что им, своих убитых не хватает, что ли? К чему ещё мои Клеопатры да Нероны?
Но дней через десять он вдруг сам снял замок и объяснил друзьям это так:
— Решил открыть! Моя аморальность протестует. Всё-таки у меня эстетика: «Убийство как изящное искусство». В том-то и дело, что и убийство должно быть искусством. Вы посмотрите, как мои Клеопатры учат умирать легко, играя, самоотверженно! Зрители стоят возле них, и едят мороженое, и кокетничают с дамами, а там... Я пошёл посмотреть. Брр! Гадость! — Он закрывал глаза и крутил головой. — Искусство всегда прекрасно, господа, вот в чём дело! Нет, моя бабушка отлично понимала это, когда так роскошно сервировала восковые ужасы. Не зря она была десять лет любимой шансонеткой баварского короля, и не зря, не зря потом этот король сошёл с ума!
И вот снова в открытых залах появились посетители, только теперь это большей частью были немецкие солдаты в чёрных, зелёных и синеватых шинелях. Остро запахло карболкой и ещё чем-то столь же резким, а в музее вдруг прибавилась особая витрина — череп Шарлотты Корде и над ним свидетельство о подлинности со многими печатями. Этот раритет продал какой-то солдат, вывезший его из Франции.
Вот в этот-то музей неизвестно с чего и почему пришёл Курт с сумкой в руках. Он ходил по залам, таращил глаза и удивлялся, постоял возле группы «Леда и лебедь» (надо было опустить бронзовый жетон в стоящую рядом копилку, и вся панорама ожила бы и задвигалась, но он почему-то этого не сделал), потом пошёл в большой зал и вдруг внезапно очутился среди христиан в белых тогах на арене цирка. Курт внимательно осмотрел их и сказал стоящему рядом с ним чёрному и худому немцу:
— А лев-то какой... вся морда отбилась, и глаз нет! Показывают невесть что! Знал бы, так и деньги не платил, — и пошёл к выходу.
На контроле возле кассы сидела старушка и вязала красную фуфайку. Около неё на отдельном столике лежала толстая чёрная книга с надписью «Отзывы» и автоматическая ручка на цепочке.
Курт посмотрел на книгу, на ручку и широко улыбнулся.
— Это чтобы не унесли с собой! — сказал он понятливо. — Я уж отлично вижу, что к чему. Ведь народ сейчас такой — пишет, пишет, да и в карман. Лови его потом!
Старушка оторвалась от фуфайки и подняла на него печальные, недоумевающие глаза.
— Я говорю, вон как бережёт хозяин ручку, — пояснил Курт. — Это я насчёт цепочки. — Старушка смотрела на него, не понимая. — Цепочка-то, цепочка-то, говорю, для того, чтобы ручку не утащили, — объяснил он уже досадливо. — Конечно, я сочувствую — всякие люди тут ходят, на совесть сейчас доверять никак нельзя. Это что ж, всякому можно тут расписаться?
— Пожалуйста, — равнодушно пожала плечами старушка, рассматривая его лицо. — Записывайте ваши отзывы, впечатления, предложения, замечания в адрес дирекции. Всё, что вас удивило в нашем музее, что оставило недоумение или недовольство, что особенно понравилось. Подпись, фамилия и адрес не обязательны.
— Да нет, почему же, — великодушно махнул рукой Курт. — Я и адрес запишу. Писать — так уж писать. Ну-ка, разрешите. — И он сел за столик.
Писал он долго, пыхтел, останавливался, думал и снова писал. А когда старушка посмотрела на него опять, он даже с некоторой робостью спросил её:
— А что вот тут написано? «Ваши предложения». Так могу я письменно одну вещь предложить или нет? Есть у меня такая удивительная штука — красный череп. Купят его у меня или нет?
— Ой, нет, нет! — испугалась старушка. — Тут ничего подобного писать нельзя. Это вы к хозяину пройдите и предложите ему. А писать тут только надо дело...
— Да я уж написал, — успокоил её Курт. — Вы не беспокойтесь, матушка, хозяин будет только рад. Он как увидит, так и уцепится. Вот я и адрес приложил. Всё как положено.
— Как? — вскочила старушка. — Да что же вы тут такое написали?
— А всё как есть, то я и описал, — успокоил её Курт. — Ну, как, что, где нашёл. Только вот насчёт цены не знаю, так что ничего не обозначил. Хозяин, наверное, не обидит, я ему на совесть верю.
— Ой, Боже мой! — старушка выхватила у него книгу и так и замерла.
Весь лист был исписан какими-то цифрами, через каждые два слова шла запятая или восклицательный знак. Внизу красовалась подпись на полстраницы.
«Господину президенту музея. Сегодня я на остановке, поджидая 17-й номер, услышал, как 2 человека разговаривали промеж собой, что вы скоро ваш уважаемый музей закроете на 3 месяца!! А когда откроете во 2-й раз, он будет в 5 раз больше, чем был! И для этого вам нужны всякие редкости, кто какие только принесёт. А вот есть у меня редкость — 1 красный череп 2-го сорта! Он бы был и 1-го, да у него выбито 12 зубов, в голове 5 трещин и одна челюсть расколота на 13 частей, а 2-я цела. От этого я его готов продать в 4 раза дешевле, чем он стоит. Если нужно, напишите до 20-го, а живу я в 36 сеттльменте...»
Ну, и так далее, до конца страницы, до огромной, министерской подписи с крюками и петлёй.
— Господи, да что он тут такое нагородил? — крикнула старушка, чуть не плача. — Нет, я сейчас же вызову хозяина, пусть он придёт и посмотрит сам. Вот ещё беда! — И, прихватив фуфайку и книгу, она бросилась по коридору.
Курт, очень довольный всем, смешливо оглянулся по сторонам, ища сочувствия, увидел стоящего сзади солдата и подмигнул ему одним глазом.
— Видишь, как распалилась, чуть не заплакала... А за что? Разве я что непотребное написал? У меня же ни одного ругательства нет. Я только предложил: купит — так купит, а нет — так и до свидания, я другого найду.
Солдат покачал головой и посоветовал:
— А ты бы, милый, верно, шёл, пока хозяина нет, а то придёт, раскричится, да ещё, пожалуй, в полицию стащит. Ты, смотри же, ему всю книгу запакостил.
— Я не запакостил, я дело предложил, — холодно ответил Курт и отвернулся от солдата.
Но тут пришёл улыбающийся хозяин, очень вежливо поздоровался с Куртом и почтительно спросил:
— Это, очевидно, вы продаёте красный череп?
Курт торжествующе повернулся к старушке:
— Ну что, мать? Видишь, что значит культурный человек! У него всё по-деликатному, без шума, без крика. Ну, как с таким дорожиться? Есть, есть у меня череп, — успокоил он хозяина. — Как я обозначил, так всё у меня и есть. Постойте-ка, — и он положил сумку на стол и стал её расстёгивать.
— Так, может, пройдём ко мне? — любезно и серьёзно предложил хозяин и сунул книжку с записями себе под мышку. — Там вы мне всё и покажете. Он у вас с собой?
Они прошли через длинную стеклянную галерею, зловеще освещённую красными лампами и факелами — зал инквизиции, — и поднялись по винтовой лестнице в комнату, заставленную стеклянными шкафами, из которых глядели на посетителя головы знаменитых преступников двух столетий, и зашли в служебный кабинет хозяина. Тут Келлер запер дверь и повернулся к Курту. Наступила короткая пауза. Каждый разглядывал друг друга.
— У льва одного глаза нет, — сказал Курт, улыбаясь. — Это может не понравиться военной комендатуре.
— Я всегда стою на страже её интересов, — быстро, в один вздох, выпалил Келлер. — Ах, я даже не предложил вам сесть! — Он дотронулся до спинки огромного кожаного кресла. — Будьте любезны, пожалуйста. Курите? Курите, пожалуйста, вот папиросы.
— Спасибо, — ответил Курт и сел. — Вот пришёл посмотреть, как вы живёте. — Он обвёл комнату взглядом. — Ну что ж, мне кажется, всё в порядке.
— Да? — Келлер резко пожал плечами. — По-вашему, это порядок? Плохо, если вы на это смотрите так, только и могу сказать. Вы моё письмо получили?
— Ещё неделю тому назад, — ответил Курт ласково и положил ему ладонь на руку. — Слушайте, и вы тоже сядьте и перестаньте волноваться! Вот так! Ваше письмо мне кое в чём не понравилось. Волнуетесь много. Больше, чем надо.
Лицо Келлера сразу стало возбуждённым и замкнутым.
— Больше? — сказал он, сдерживаясь. Встал, подошёл к пальме, стоящей в кадочке посередине кабинета, и начал поправлять её ветви. — Вот вчера, например, у меня в кабинете был немец, военный комендант города, — сказал он вдруг, оборачиваясь к Курту. — Сидел он в том же кресле, что и вы, и курил сигареты, а в ящике стола...
— А со мной немцы в одном доме живут, — добродушно ответил Курт и весело ударил слегка рукой по подлокотнику. — Понимаете, коллега, очень правильно живут — спят, едят, пьют шнапс, гуляют, по прямому проводу связываются с Берлином. А у меня тоже в столе планы и документы. Так что будем делать? Отказываться от работы? А? — Он так прямо и неотступно глядел в лицо магистру философии, что тот наконец отвёл глаза и опять повернулся к пальме. — Или я менее осторожен, чем вы?
— Я этого не говорю, но... — ответил Келлер, возясь с веткой.
— Ну, тогда, может быть, менее опытен? Ах, тоже нет? Тогда менее труслив, может быть?
— О! — взорвался наконец Келлер и бросил пальму. — Вы мне говорите о трусости! Вы! Вы же отлично видите, на каком вулкане я обречён танцевать!
— Вижу, вижу, — успокоил его Курт. — Всё отлично вижу. Вот я и пришёл поблагодарить вас и сказать, что вы по-настоящему молодец. Но только не надо нервничать! Поверьте, я много трусливее вас и поэтому если на что-нибудь иду, то потому, что считаю: вот это-то и есть самое безопасное, всё остальное ещё хуже, а чаще всего и много хуже.
Он помолчал.
— Вам в гестапо приходилось когда-нибудь сидеть? — спросил он вдруг.
— Странный вопрос! — хмуро улыбнулся Келлер. — Я же разговариваю с вами — значит, не сидел.
— А я вот сидел, — резко ответил Курт и посмотрел ему в глаза. — Меня даже травили в газовой камере, а вот я тоже разговариваю с вами. Значит, я больше вас знаю, с чем вы имеете дело, и больше вас боюсь провалить его. Вы улавливаете разницу? «Я боюсь провалить дело», — это совсем не то, что «я боюсь».
— Вполне, — кивнул головой Келлер. — Я тоже боюсь провалить дело.
— Но это же совсем другой разговор, — отозвался Курт. — Так, значит, и будем разговаривать о деле, которое мы оба боимся провалить, а поэтому и не провалим. Вот вы сказали: «Был военный комендант и курил сигареты». Ну, а ваших-то людей у вас за это время было много?
Келлер слегка усмехнулся и кивнул головой на книгу.
— Да вот же книга перед вами же, смотрите сами. Но экстренное сообщение было только одно. — И, перевернув страницу, Келлер ткнул ногтем в подпись, сделанную анилиновыми чернилами: «Ваш покорный слуга, старый учитель католической школы».
Курт только скользнул глазами по записи и перевернул лист. Были ещё две записи о том, что материальная подготовка операции «Леди» проходит успешно и в склад доставлена новая партия оружия, в том числе браунингов («смею ли выразить своё восхищение») двести штук (город Демье, улица Капуцинов, 200). Есть и пулемёты («тяжёлое впечатление оставляет ваш музей»), немного, но всё-таки 50 штук («Иоганн Граббе, 50 лет»). Но Курт и на пулемёты почти не обратил внимания. Не так давно в его распоряжение поступил целый склад оружия, оставшийся после бежавшего правительства, поэтому все эти мелкие поступления, очень существенные и важные с моральной стороны (значит, люди работают вовсю!), материально почти ничего не значили. А работали люди действительно хорошо. Взять хотя бы этого толстяка. В его верности и готовности никак сомневаться не приходится. Он и раньше оказывал партии разные мелкие услуги, хотя к ряду пунктов её программы относился просто отрицательно, а к другим — недоуменно. А вообще он господин с большими странностями и загибами. Однажды он, первый католик, опубликовал такую статью, после которой часть знакомых перестала с ним даже раскланиваться. Это было в дни, когда в парламенте дебатировался законопроект о запрещении проституции. Коммунисты, все левые и даже часть правых голосовали за проект. Вот тогда Келлер и выступил со статьёй, озаглавленной «Божеское и человеческое». «С этим злом, — писал он, — нельзя бороться ни законами, ни запретами. Публичные дома — одно из звеньев той цепи мировой греховности и несовершенства, которая опутала первого человека после его грехопадения». Вспомнив об этой фразе, Курт улыбнулся и сказал:
— Одно из звеньев нашего несовершенства, дорогой мой министр, заключается, между прочим, и в том, что нам, борцам против нацизма, приходится прибегать не к словам, а к динамиту. Это чертовски неприятно, но такова уж природа борьбы.
— Не мир, но меч, — ответил Келлер сейчас же. — Не сомневайтесь, я следую за моим Спасителем и в этом.
И он просто и ласково посмотрел на Курта сразу потеплевшими близорукими глазами.
Всё, что происходило в этой комнате, страшно волновало магистра философских наук. Он давно уже слышал о руководителе Сопротивления, но никогда не думал, что ему придётся увидеть его вот так. Собственно говоря, он, Келлер, нарушил все правила и инструкции и конспирации. Запись начальника одним из пунктов обязывала его немедленно прийти на место явки, и только. Но ему показалось, что начальник и сам хочет его увидеть. Глупая старуха так возмущалась, так совала ему в лицо эту запись, что, увидев гриф руководителя группы и приказ явиться, он решил выйти на всякий случай в вестибюль. Ведь если начальник не захочет с ним встретиться, он всегда может уйти до его прихода. Но начальник не ушёл, а подождал его и поднялся с ним в кабинет, чтобы дать ему нужные разъяснения. Полно! Для того ли, чтобы дать разъяснения? Келлеру вдруг пришло в голову, что руководитель просто хочет его прощупать — ведь они все безбожники.
— Бич и меч в руках Спасителя для меня так же святы, как терновый венец на его голове, — сказал Келлер, — и с этой стороны ни у меня, ни у церкви расхождений с вами нет. Как верный католик, я сейчас солдат Сопротивления — и только. Пришли враги, и я говорю им слова Евангелия: «Не мир вам, но меч!»
— Так, так, — Курт посмотрел на него, встал и прошёлся по комнате. Не мир, но меч, в этом вы правы. Но меч-то этот во имя мира, а не во имя войны. Во имя этого мы и работаем вместе и верим друг другу. — Он говорил негромко и страстно, его смуглое обветренное лицо даже слегка порозовело. А вот они подняли меч во имя войны, поэтому их перебьют, как бешеных псов. Вот именно для этого мне и нужна ваша жизнь, за которую я, кстати, отвечаю собственной головой. Поэтому сидите смирно и будьте спокойны.
и вот теперь скажите мне, какое отношение этот эпиграф имеет к фэнтези-роману, действие в котором происходит даже не на нашей с вами Земле? Не, вопрос риторический, отвечать не надо. А это просто размышления на тему; " Когда б вы знали, из какого сора. Растут стихи, не ведая стыда". Вот из мощного антифашистского романа Домбровского у меня выросли легонькое и незатейливое городское фэнтези "На тихом перекрестке" и малость депрессивное ("какой-то недоделанный Ремарк", как выразилась одна из читательниц) "Когда закончится война". А "Карми" росла из "Кима" Киплинга и костеровского "Уленшпигеля". Нет, это не подражания, ни в коей мере. А просто так - ростки.
полная цитата из ДомбровскогоВ городе, на площади Принцессы Вильгельмины, уже около ста лет красовалось жёлтое двухэтажное приземистое здание. Его осенял круглый стеклянный купол, увенчанный зелёным флагом. На фронтоне горела всеми цветами жёлтая вывеска со змеями, огнедышащим драконом на цепи и отрубленной человеческой головой на блюде. Блюдо это держала в руке черноволосая, жгучая красавица, вся в тонких косичках, ожерельях, бусах и развевающихся покрывалах. Внизу золотым по чёрному блестела надпись: «Паноптикум госпожи Птифуа» и ещё ниже: «Дети до 16 лет не допускаются. Солдаты платят половину».
Госпожа Птифуа уже скоро тридцать лет как лежит на городском кладбище, под безносым мраморным ангелом. От неё остались только восковой бюст в вестибюле музея да бронзовая дощечка, на которой чётко обозначено: «1840-1912».
Теперь музеем владел сын её дочери — магистр философии господин Иоганн Келлер. Его часто можно было видеть в залах музея: ходит этакий небольшой господин с животиком, золотыми зубами и круглым румянцем на полных щеках, постоянно доволен всем, тих и уравновешен. В кругу своих знакомых, кроме несоответствия занятий — в самом деле, магистр философии и паноптикум! — он был ещё известен тем, что уже десятый год сидел над работой о Венерах: о Венере Милосской, Венере Meдицейской, Микенской, Таврической. И добро бы он горел на этой работе, считал её делом своей жизни, а то ведь ничего подобного, — он, кажется, сам не понимал толком, для чего и кому нужна его диссертация и чем он её кончит, писал — и всё!
— Так ведь про этих Венер-то и материалов столько не наберёшь, горевали его знакомые. — Чем же вы занимаетесь десять-то лет?
Господин Келлер смотрел в лицо собеседника ореховыми улыбающимися глазами, и лицо его светилось от тихого удовольствия.
— Ну да, ну да! — возражал он с каким-то даже подобием оживления. — И я так думал вначале: «Какая там литература?! Две брошюрки, одна монография — вот и всё, пожалуй». А как поднял книжные пласты, так знаете, что на меня полезло... Ну! Наибогатейший материал, на восьми языках! Даже на венгерском и то отыскался какой-то специальный альбом. А поначалу так действительно казалось, что нет ничего. Хотя, — говорил он, подумав, — ведь важен-то не сам материал, а мысли по поводу него. Вот написал же Лессинг книгу только об одной статуе, и книжка стала классической, её перевели на все языки мира. Вот и подумайте! — и в глазах его было столько тепла и иронии, столько добродушного издевательства и над Венерами, сколько бы их там ни было, и над всеми восемью языками, на которых о них написано столько перечитанной им ерунды, и над своей работой, которую он, видимо, ни в грош не ставил, что обыкновенно собеседник больше не расспрашивал и разговор на этом кончался. И о паноптикуме, хозяином которого он состоял вот уже двадцать лет, Келлер говорил с тем же мягким, добродушным презрением и задумчивостью.
— Конечно, говоря между нами, джентльменами, — задумчиво цедил он сквозь зубы, — всё это похабщина, — он кивал на свои манекены, — всем этим Ледам да обнажённым Цецилиям со стрелами в груди только и стоять бы в вестибюле дома терпимости, но есть публика, которой это нравится, она валом валит.
Он задумывался и продолжал:
— И вся беда, очевидно, в том, что людям без зверства никак не прожить. Самому убивать даже на войне, конечно, противно, — цивилизация мешает, — но посмотреть на это хотя бы одним глазком, со стороны, положительно необходимо. Есть такая классическая английская монография прошлого века — не читали? — «Убийство как изящное искусство». Вы понимаете, в чём пакость? Оказывается, установлено научно, что убийство, во-первых, искусство, а во-вторых, ещё и изящное искусство. Вот тут-то, наверное, и собака зарыта.
Слушатели, которые были поумнее, после этих объяснений переводили разговор на погоду, а дурачки восклицали:
— Позвольте, но вы же проповедуете безнравственность!
И тогда Келлер, тоже с видимым удовольствием и даже без своей обычной флегмы, подхватывал:
— Возможно, возможно! Вполне, вполне возможно! Я же вообще по натуре, очевидно, совершенно аморален. Вот влюблён во всякую красоту, в любую форму её — от тропической змеи до женщины. А ведь красота-то — она от дьявола! Это ещё богомилы, а до них Плотин очень убедительно доказывал, почитайте-ка!
Он говорил о своей аморальности, а жил монахом, у него не было ни жены, ни детей, ни даже как будто любовницы. Вот этот человек, как только в город вошли немцы, первый из всего города нарушил приказ командования о том, что все предприятия, в том числе зрелищные и увеселительные, должны работать по прежнему распорядку, и повесил на двери паноптикума блестящий пружинный замок.
— А что же могу теперь показать интересного? — спрашивал он. — У меня ведь ужасы восковые, раскрашенные — так кого я чем напугаю? Вон у моих мучениц и щёчки розовенькие, ресницы насурьмлены, даже проволока кое-где торчит, а тут, в десяти минутах ходьбы от моего музея, раскачиваются на проводе самые настоящие висельники с вывалившимися языками, и над ними вороны дерутся. Ну, совсем пятнадцатый век. Так кто же после них пойдёт смотреть моих куколок? Ведь это же профанация! Я так и скажу немцам: «Ничего не поделаешь, музей не выдержал конкуренции».
— А что они вам ответят? — спрашивали его.
Он разводил руками и тоже спрашивал:
— А зачем им отвечать? Что им, своих убитых не хватает, что ли? К чему ещё мои Клеопатры да Нероны?
Но дней через десять он вдруг сам снял замок и объяснил друзьям это так:
— Решил открыть! Моя аморальность протестует. Всё-таки у меня эстетика: «Убийство как изящное искусство». В том-то и дело, что и убийство должно быть искусством. Вы посмотрите, как мои Клеопатры учат умирать легко, играя, самоотверженно! Зрители стоят возле них, и едят мороженое, и кокетничают с дамами, а там... Я пошёл посмотреть. Брр! Гадость! — Он закрывал глаза и крутил головой. — Искусство всегда прекрасно, господа, вот в чём дело! Нет, моя бабушка отлично понимала это, когда так роскошно сервировала восковые ужасы. Не зря она была десять лет любимой шансонеткой баварского короля, и не зря, не зря потом этот король сошёл с ума!
И вот снова в открытых залах появились посетители, только теперь это большей частью были немецкие солдаты в чёрных, зелёных и синеватых шинелях. Остро запахло карболкой и ещё чем-то столь же резким, а в музее вдруг прибавилась особая витрина — череп Шарлотты Корде и над ним свидетельство о подлинности со многими печатями. Этот раритет продал какой-то солдат, вывезший его из Франции.
Вот в этот-то музей неизвестно с чего и почему пришёл Курт с сумкой в руках. Он ходил по залам, таращил глаза и удивлялся, постоял возле группы «Леда и лебедь» (надо было опустить бронзовый жетон в стоящую рядом копилку, и вся панорама ожила бы и задвигалась, но он почему-то этого не сделал), потом пошёл в большой зал и вдруг внезапно очутился среди христиан в белых тогах на арене цирка. Курт внимательно осмотрел их и сказал стоящему рядом с ним чёрному и худому немцу:
— А лев-то какой... вся морда отбилась, и глаз нет! Показывают невесть что! Знал бы, так и деньги не платил, — и пошёл к выходу.
На контроле возле кассы сидела старушка и вязала красную фуфайку. Около неё на отдельном столике лежала толстая чёрная книга с надписью «Отзывы» и автоматическая ручка на цепочке.
Курт посмотрел на книгу, на ручку и широко улыбнулся.
— Это чтобы не унесли с собой! — сказал он понятливо. — Я уж отлично вижу, что к чему. Ведь народ сейчас такой — пишет, пишет, да и в карман. Лови его потом!
Старушка оторвалась от фуфайки и подняла на него печальные, недоумевающие глаза.
— Я говорю, вон как бережёт хозяин ручку, — пояснил Курт. — Это я насчёт цепочки. — Старушка смотрела на него, не понимая. — Цепочка-то, цепочка-то, говорю, для того, чтобы ручку не утащили, — объяснил он уже досадливо. — Конечно, я сочувствую — всякие люди тут ходят, на совесть сейчас доверять никак нельзя. Это что ж, всякому можно тут расписаться?
— Пожалуйста, — равнодушно пожала плечами старушка, рассматривая его лицо. — Записывайте ваши отзывы, впечатления, предложения, замечания в адрес дирекции. Всё, что вас удивило в нашем музее, что оставило недоумение или недовольство, что особенно понравилось. Подпись, фамилия и адрес не обязательны.
— Да нет, почему же, — великодушно махнул рукой Курт. — Я и адрес запишу. Писать — так уж писать. Ну-ка, разрешите. — И он сел за столик.
Писал он долго, пыхтел, останавливался, думал и снова писал. А когда старушка посмотрела на него опять, он даже с некоторой робостью спросил её:
— А что вот тут написано? «Ваши предложения». Так могу я письменно одну вещь предложить или нет? Есть у меня такая удивительная штука — красный череп. Купят его у меня или нет?
— Ой, нет, нет! — испугалась старушка. — Тут ничего подобного писать нельзя. Это вы к хозяину пройдите и предложите ему. А писать тут только надо дело...
— Да я уж написал, — успокоил её Курт. — Вы не беспокойтесь, матушка, хозяин будет только рад. Он как увидит, так и уцепится. Вот я и адрес приложил. Всё как положено.
— Как? — вскочила старушка. — Да что же вы тут такое написали?
— А всё как есть, то я и описал, — успокоил её Курт. — Ну, как, что, где нашёл. Только вот насчёт цены не знаю, так что ничего не обозначил. Хозяин, наверное, не обидит, я ему на совесть верю.
— Ой, Боже мой! — старушка выхватила у него книгу и так и замерла.
Весь лист был исписан какими-то цифрами, через каждые два слова шла запятая или восклицательный знак. Внизу красовалась подпись на полстраницы.
«Господину президенту музея. Сегодня я на остановке, поджидая 17-й номер, услышал, как 2 человека разговаривали промеж собой, что вы скоро ваш уважаемый музей закроете на 3 месяца!! А когда откроете во 2-й раз, он будет в 5 раз больше, чем был! И для этого вам нужны всякие редкости, кто какие только принесёт. А вот есть у меня редкость — 1 красный череп 2-го сорта! Он бы был и 1-го, да у него выбито 12 зубов, в голове 5 трещин и одна челюсть расколота на 13 частей, а 2-я цела. От этого я его готов продать в 4 раза дешевле, чем он стоит. Если нужно, напишите до 20-го, а живу я в 36 сеттльменте...»
Ну, и так далее, до конца страницы, до огромной, министерской подписи с крюками и петлёй.
— Господи, да что он тут такое нагородил? — крикнула старушка, чуть не плача. — Нет, я сейчас же вызову хозяина, пусть он придёт и посмотрит сам. Вот ещё беда! — И, прихватив фуфайку и книгу, она бросилась по коридору.
Курт, очень довольный всем, смешливо оглянулся по сторонам, ища сочувствия, увидел стоящего сзади солдата и подмигнул ему одним глазом.
— Видишь, как распалилась, чуть не заплакала... А за что? Разве я что непотребное написал? У меня же ни одного ругательства нет. Я только предложил: купит — так купит, а нет — так и до свидания, я другого найду.
Солдат покачал головой и посоветовал:
— А ты бы, милый, верно, шёл, пока хозяина нет, а то придёт, раскричится, да ещё, пожалуй, в полицию стащит. Ты, смотри же, ему всю книгу запакостил.
— Я не запакостил, я дело предложил, — холодно ответил Курт и отвернулся от солдата.
Но тут пришёл улыбающийся хозяин, очень вежливо поздоровался с Куртом и почтительно спросил:
— Это, очевидно, вы продаёте красный череп?
Курт торжествующе повернулся к старушке:
— Ну что, мать? Видишь, что значит культурный человек! У него всё по-деликатному, без шума, без крика. Ну, как с таким дорожиться? Есть, есть у меня череп, — успокоил он хозяина. — Как я обозначил, так всё у меня и есть. Постойте-ка, — и он положил сумку на стол и стал её расстёгивать.
— Так, может, пройдём ко мне? — любезно и серьёзно предложил хозяин и сунул книжку с записями себе под мышку. — Там вы мне всё и покажете. Он у вас с собой?
Они прошли через длинную стеклянную галерею, зловеще освещённую красными лампами и факелами — зал инквизиции, — и поднялись по винтовой лестнице в комнату, заставленную стеклянными шкафами, из которых глядели на посетителя головы знаменитых преступников двух столетий, и зашли в служебный кабинет хозяина. Тут Келлер запер дверь и повернулся к Курту. Наступила короткая пауза. Каждый разглядывал друг друга.
— У льва одного глаза нет, — сказал Курт, улыбаясь. — Это может не понравиться военной комендатуре.
— Я всегда стою на страже её интересов, — быстро, в один вздох, выпалил Келлер. — Ах, я даже не предложил вам сесть! — Он дотронулся до спинки огромного кожаного кресла. — Будьте любезны, пожалуйста. Курите? Курите, пожалуйста, вот папиросы.
— Спасибо, — ответил Курт и сел. — Вот пришёл посмотреть, как вы живёте. — Он обвёл комнату взглядом. — Ну что ж, мне кажется, всё в порядке.
— Да? — Келлер резко пожал плечами. — По-вашему, это порядок? Плохо, если вы на это смотрите так, только и могу сказать. Вы моё письмо получили?
— Ещё неделю тому назад, — ответил Курт ласково и положил ему ладонь на руку. — Слушайте, и вы тоже сядьте и перестаньте волноваться! Вот так! Ваше письмо мне кое в чём не понравилось. Волнуетесь много. Больше, чем надо.
Лицо Келлера сразу стало возбуждённым и замкнутым.
— Больше? — сказал он, сдерживаясь. Встал, подошёл к пальме, стоящей в кадочке посередине кабинета, и начал поправлять её ветви. — Вот вчера, например, у меня в кабинете был немец, военный комендант города, — сказал он вдруг, оборачиваясь к Курту. — Сидел он в том же кресле, что и вы, и курил сигареты, а в ящике стола...
— А со мной немцы в одном доме живут, — добродушно ответил Курт и весело ударил слегка рукой по подлокотнику. — Понимаете, коллега, очень правильно живут — спят, едят, пьют шнапс, гуляют, по прямому проводу связываются с Берлином. А у меня тоже в столе планы и документы. Так что будем делать? Отказываться от работы? А? — Он так прямо и неотступно глядел в лицо магистру философии, что тот наконец отвёл глаза и опять повернулся к пальме. — Или я менее осторожен, чем вы?
— Я этого не говорю, но... — ответил Келлер, возясь с веткой.
— Ну, тогда, может быть, менее опытен? Ах, тоже нет? Тогда менее труслив, может быть?
— О! — взорвался наконец Келлер и бросил пальму. — Вы мне говорите о трусости! Вы! Вы же отлично видите, на каком вулкане я обречён танцевать!
— Вижу, вижу, — успокоил его Курт. — Всё отлично вижу. Вот я и пришёл поблагодарить вас и сказать, что вы по-настоящему молодец. Но только не надо нервничать! Поверьте, я много трусливее вас и поэтому если на что-нибудь иду, то потому, что считаю: вот это-то и есть самое безопасное, всё остальное ещё хуже, а чаще всего и много хуже.
Он помолчал.
— Вам в гестапо приходилось когда-нибудь сидеть? — спросил он вдруг.
— Странный вопрос! — хмуро улыбнулся Келлер. — Я же разговариваю с вами — значит, не сидел.
— А я вот сидел, — резко ответил Курт и посмотрел ему в глаза. — Меня даже травили в газовой камере, а вот я тоже разговариваю с вами. Значит, я больше вас знаю, с чем вы имеете дело, и больше вас боюсь провалить его. Вы улавливаете разницу? «Я боюсь провалить дело», — это совсем не то, что «я боюсь».
— Вполне, — кивнул головой Келлер. — Я тоже боюсь провалить дело.
— Но это же совсем другой разговор, — отозвался Курт. — Так, значит, и будем разговаривать о деле, которое мы оба боимся провалить, а поэтому и не провалим. Вот вы сказали: «Был военный комендант и курил сигареты». Ну, а ваших-то людей у вас за это время было много?
Келлер слегка усмехнулся и кивнул головой на книгу.
— Да вот же книга перед вами же, смотрите сами. Но экстренное сообщение было только одно. — И, перевернув страницу, Келлер ткнул ногтем в подпись, сделанную анилиновыми чернилами: «Ваш покорный слуга, старый учитель католической школы».
Курт только скользнул глазами по записи и перевернул лист. Были ещё две записи о том, что материальная подготовка операции «Леди» проходит успешно и в склад доставлена новая партия оружия, в том числе браунингов («смею ли выразить своё восхищение») двести штук (город Демье, улица Капуцинов, 200). Есть и пулемёты («тяжёлое впечатление оставляет ваш музей»), немного, но всё-таки 50 штук («Иоганн Граббе, 50 лет»). Но Курт и на пулемёты почти не обратил внимания. Не так давно в его распоряжение поступил целый склад оружия, оставшийся после бежавшего правительства, поэтому все эти мелкие поступления, очень существенные и важные с моральной стороны (значит, люди работают вовсю!), материально почти ничего не значили. А работали люди действительно хорошо. Взять хотя бы этого толстяка. В его верности и готовности никак сомневаться не приходится. Он и раньше оказывал партии разные мелкие услуги, хотя к ряду пунктов её программы относился просто отрицательно, а к другим — недоуменно. А вообще он господин с большими странностями и загибами. Однажды он, первый католик, опубликовал такую статью, после которой часть знакомых перестала с ним даже раскланиваться. Это было в дни, когда в парламенте дебатировался законопроект о запрещении проституции. Коммунисты, все левые и даже часть правых голосовали за проект. Вот тогда Келлер и выступил со статьёй, озаглавленной «Божеское и человеческое». «С этим злом, — писал он, — нельзя бороться ни законами, ни запретами. Публичные дома — одно из звеньев той цепи мировой греховности и несовершенства, которая опутала первого человека после его грехопадения». Вспомнив об этой фразе, Курт улыбнулся и сказал:
— Одно из звеньев нашего несовершенства, дорогой мой министр, заключается, между прочим, и в том, что нам, борцам против нацизма, приходится прибегать не к словам, а к динамиту. Это чертовски неприятно, но такова уж природа борьбы.
— Не мир, но меч, — ответил Келлер сейчас же. — Не сомневайтесь, я следую за моим Спасителем и в этом.
И он просто и ласково посмотрел на Курта сразу потеплевшими близорукими глазами.
Всё, что происходило в этой комнате, страшно волновало магистра философских наук. Он давно уже слышал о руководителе Сопротивления, но никогда не думал, что ему придётся увидеть его вот так. Собственно говоря, он, Келлер, нарушил все правила и инструкции и конспирации. Запись начальника одним из пунктов обязывала его немедленно прийти на место явки, и только. Но ему показалось, что начальник и сам хочет его увидеть. Глупая старуха так возмущалась, так совала ему в лицо эту запись, что, увидев гриф руководителя группы и приказ явиться, он решил выйти на всякий случай в вестибюль. Ведь если начальник не захочет с ним встретиться, он всегда может уйти до его прихода. Но начальник не ушёл, а подождал его и поднялся с ним в кабинет, чтобы дать ему нужные разъяснения. Полно! Для того ли, чтобы дать разъяснения? Келлеру вдруг пришло в голову, что руководитель просто хочет его прощупать — ведь они все безбожники.
— Бич и меч в руках Спасителя для меня так же святы, как терновый венец на его голове, — сказал Келлер, — и с этой стороны ни у меня, ни у церкви расхождений с вами нет. Как верный католик, я сейчас солдат Сопротивления — и только. Пришли враги, и я говорю им слова Евангелия: «Не мир вам, но меч!»
— Так, так, — Курт посмотрел на него, встал и прошёлся по комнате. Не мир, но меч, в этом вы правы. Но меч-то этот во имя мира, а не во имя войны. Во имя этого мы и работаем вместе и верим друг другу. — Он говорил негромко и страстно, его смуглое обветренное лицо даже слегка порозовело. А вот они подняли меч во имя войны, поэтому их перебьют, как бешеных псов. Вот именно для этого мне и нужна ваша жизнь, за которую я, кстати, отвечаю собственной головой. Поэтому сидите смирно и будьте спокойны.
и вот теперь скажите мне, какое отношение этот эпиграф имеет к фэнтези-роману, действие в котором происходит даже не на нашей с вами Земле? Не, вопрос риторический, отвечать не надо. А это просто размышления на тему; " Когда б вы знали, из какого сора. Растут стихи, не ведая стыда". Вот из мощного антифашистского романа Домбровского у меня выросли легонькое и незатейливое городское фэнтези "На тихом перекрестке" и малость депрессивное ("какой-то недоделанный Ремарк", как выразилась одна из читательниц) "Когда закончится война". А "Карми" росла из "Кима" Киплинга и костеровского "Уленшпигеля". Нет, это не подражания, ни в коей мере. А просто так - ростки.
@темы: книги, мое и наше, писательское

























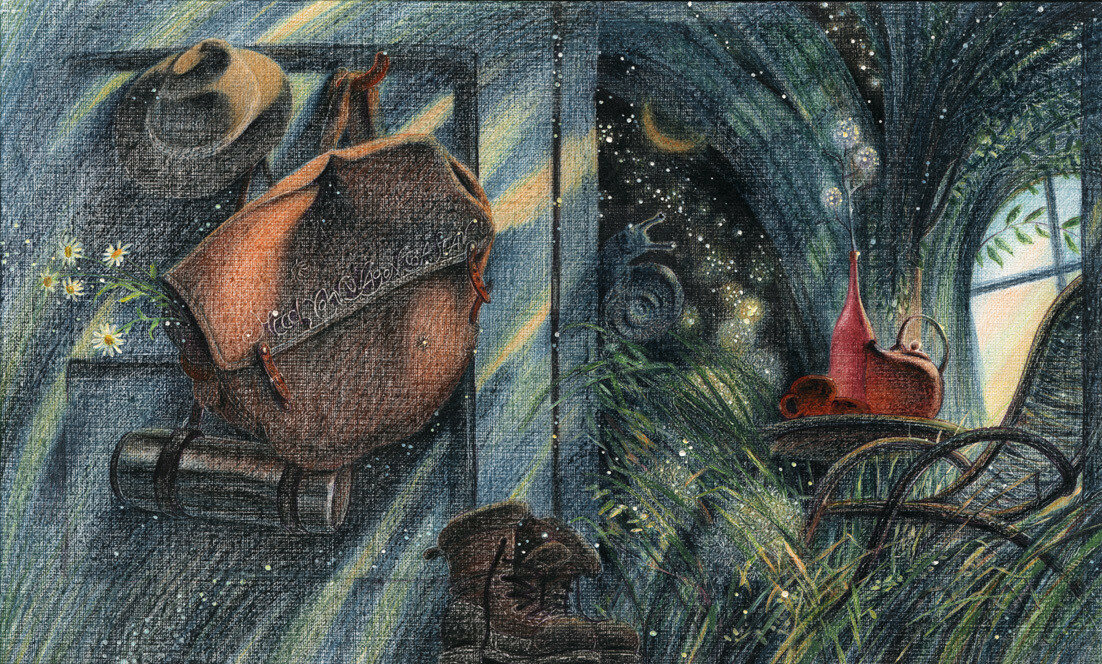

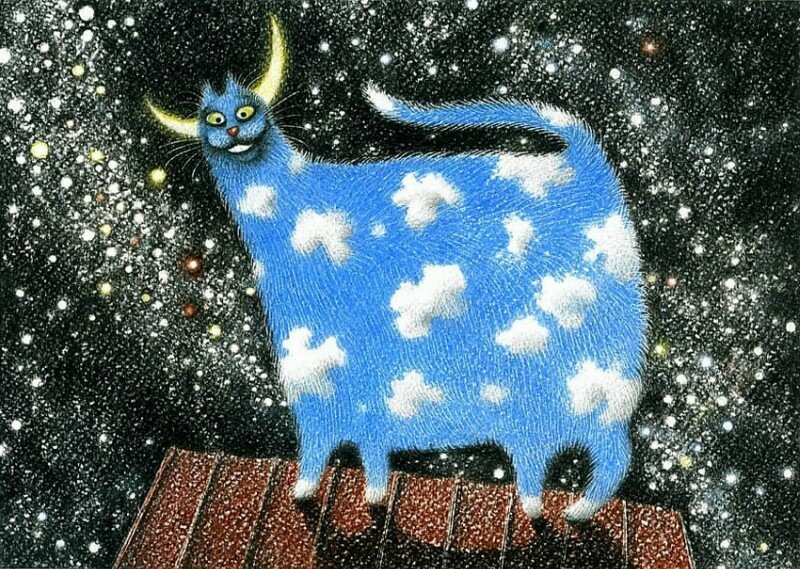















![[Именной экземпляр графа Ивана Ивановича Толстого; переплет А.А. Шнель] Столетие Уделов. 1797-1897. СПб.: Тип. Главного Управления Уделов, 1897. В роскошном сафьяновом переплете мастерской А.А. Шнеля, тройной золотой обрез, шелковые форзацы, золототиснена [Именной экземпляр графа Ивана Ивановича Толстого; переплет А.А. Шнель] Столетие Уделов. 1797-1897. СПб.: Тип. Главного Управления Уделов, 1897. В роскошном сафьяновом переплете мастерской А.А. Шнеля, тройной золотой обрез, шелковые форзацы, золототиснена](https://img-fotki.yandex.ru/get/66521/355626315.7/0_149440_78f5e64d_orig.jpg)

















 Чернокожий французский подданный и русский фельдфебель Марсель Пля, герой, имеющий два Георгиевских креста. Первый крест, как предполагается, он получил за ранее сбитый аэроплан.
Чернокожий французский подданный и русский фельдфебель Марсель Пля, герой, имеющий два Георгиевских креста. Первый крест, как предполагается, он получил за ранее сбитый аэроплан.