Укрепилась та форма произношения, которая свойственна людям, профессионально применяющим эти слова. Основной хозяин расставил свои акценты. Появились дóбыча (вместо добыча), искрá (вм. искра), на — горá, и т.д. и т.д.
В самом лучшем случае для нового советского слова вовсе нет «соответствующего» слова в другом языке (бронеподросток, безотрывник, буденновка, субботник, декретный отпуск, фабзаяц, октябренок и т.д. и т.д.) Тогда можно переписать его латинскими буквами и в примечании более или менее подробно рассказать об этом совершенно невиданном явлении. Это благодарная задача; рассказать нетрудно.
 . Эта безличная, безответственная, бессильная форма органически чужда тому классу, который теперь ведет язык.
. Эта безличная, безответственная, бессильная форма органически чужда тому классу, который теперь ведет язык.За последнюю четверть века синтаксис, в частности, английского языка и его стилистические тенденции очень изменились. Я не могу охарактеризовать здесь эти любопытнейшие процессы сколько-нибудь подробно, но отмечу только одно явление, которое кажется мне очень выразительным. Оно связано с применением дефиса (hyphen), т.е. соединительной черточки, и поэтому иногда так и называется: айфенизация (hyphentization, hyphenated words). В нормальную систему фразы, вместо определения или дополнения, включаются не одно или два слова, подчиненные подлежащему или сказуемому, а делая автономная фраза, не подчиненная управлению основной фразы. Все слова этой «чужой фразы» соединены между собой hyphen-ом и образуют своего рода цепочку. Вот какой вид приняла бы такая фраза в переводе на русский язык:
«Она молода, но уже не свободна в движениях, насторожена и не-смейте-на-меня-так-смотреть. Я удивленно посмотрел на нее. Она поднялась и с видом не-троньте-меня-а-то-будет-плохо удалилась... и т. д.»
Такие конструкции встречаются теперь все чаще и в литературе, и в газетной полемике, и в серьезных публицистических статьях. С точки зрения школьной грамматики, это, конечно, неправильная, анархическая форма.

























































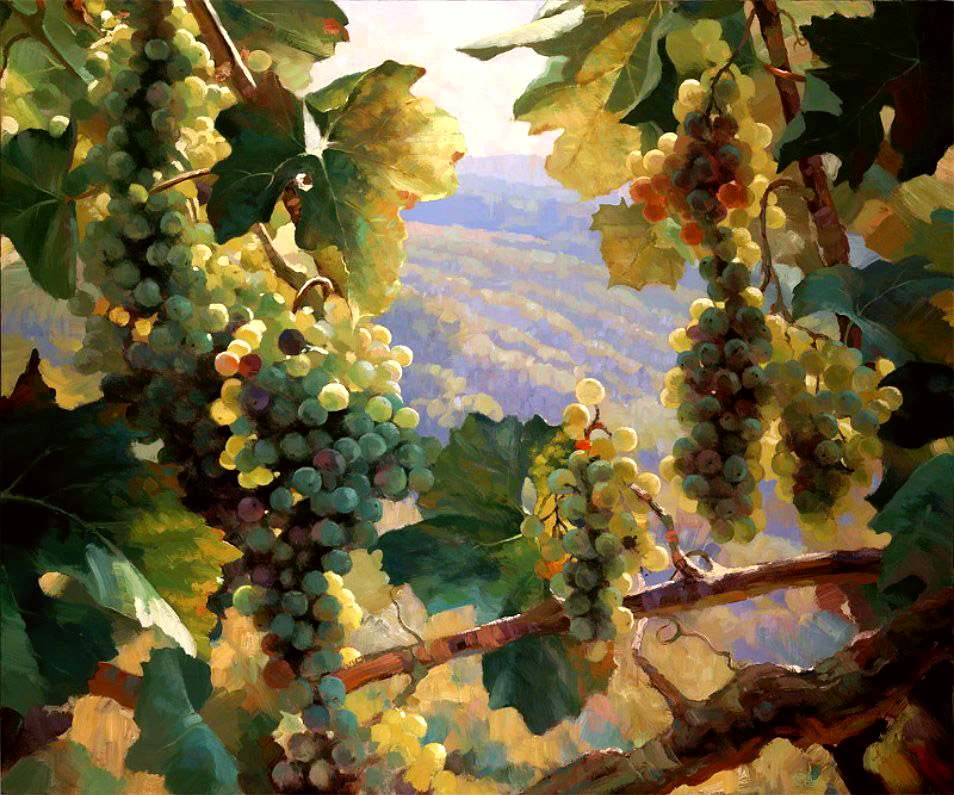

















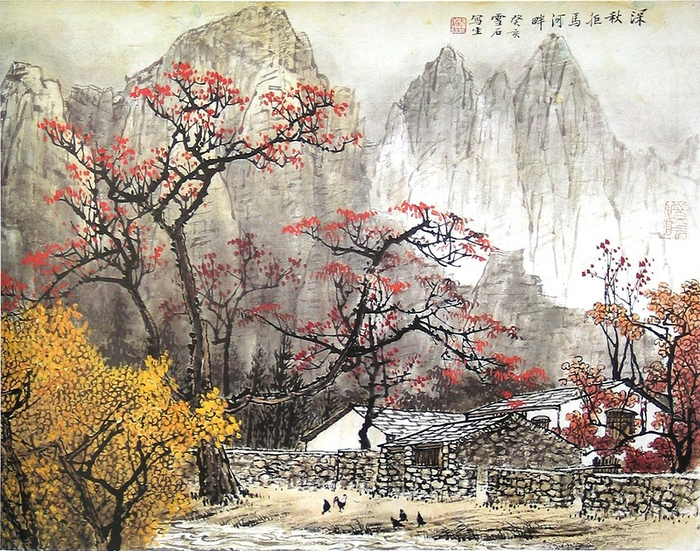

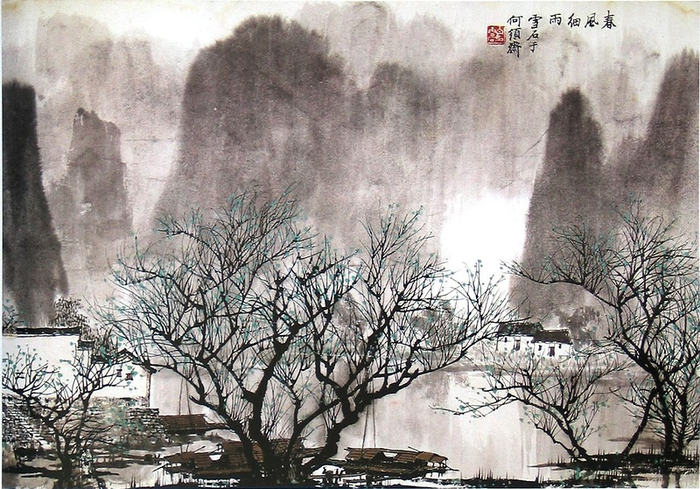




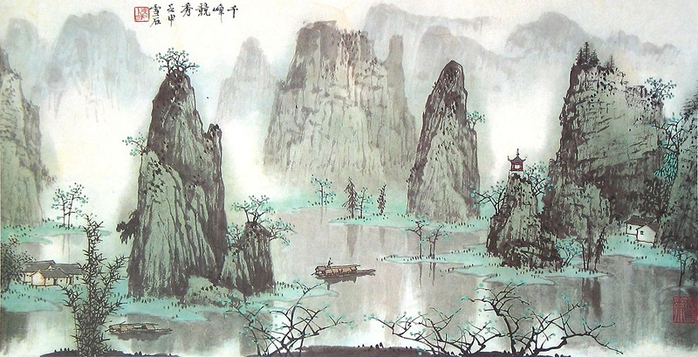

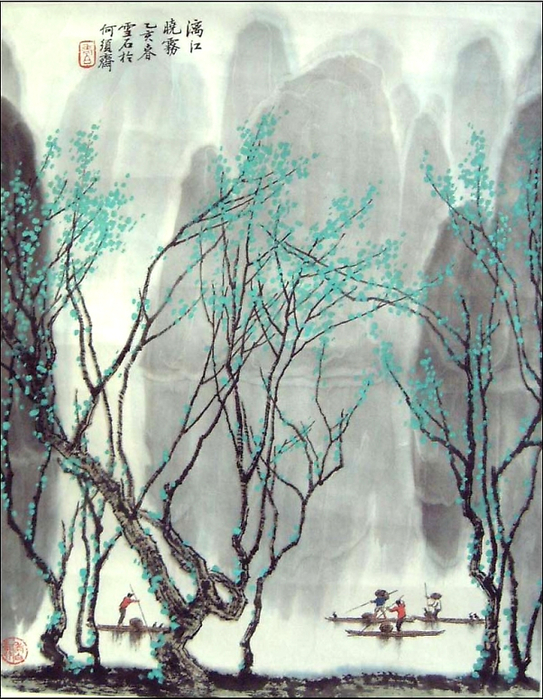
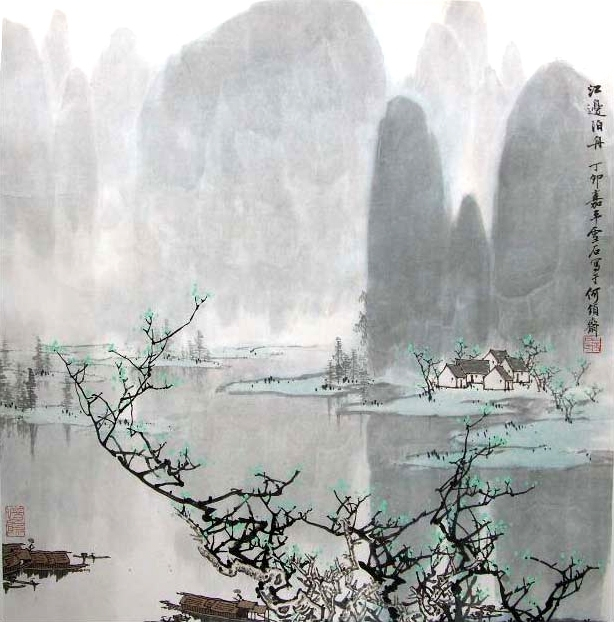





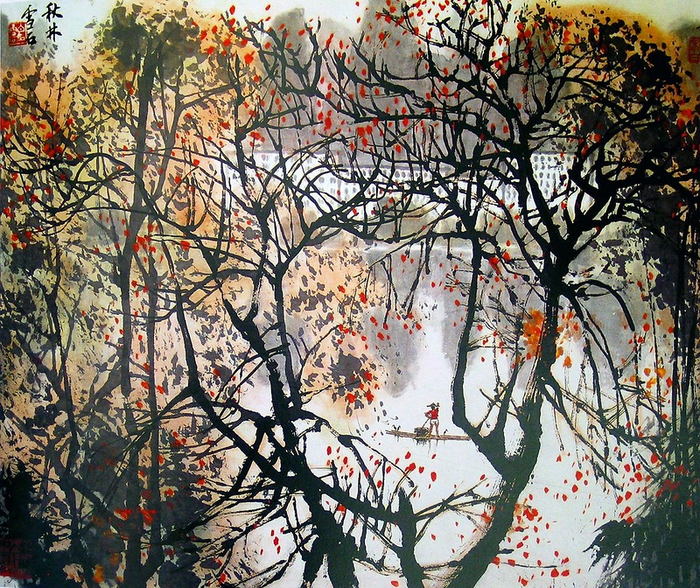


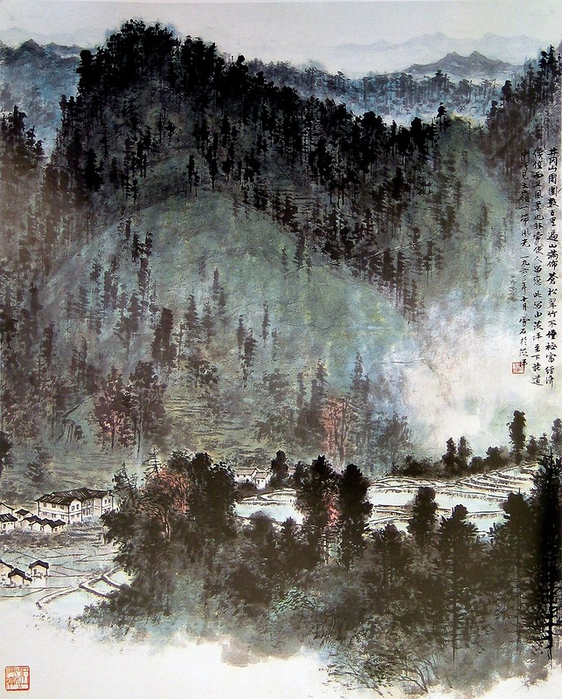




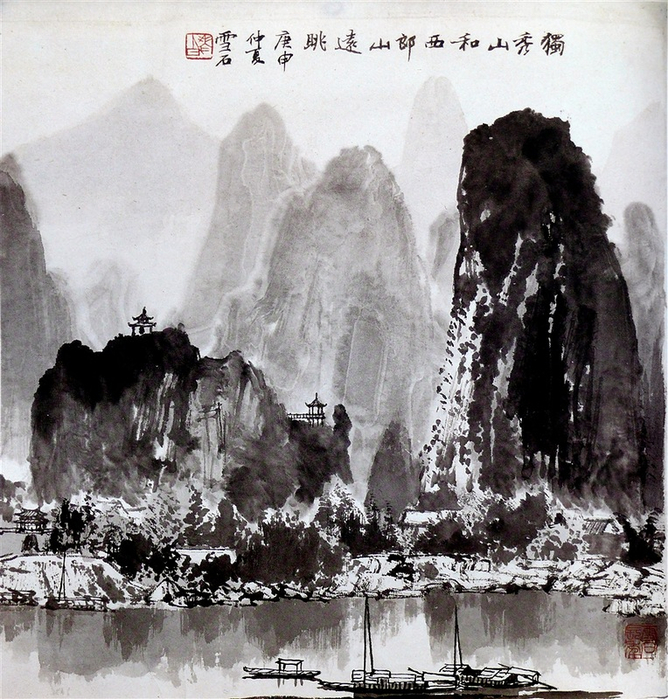


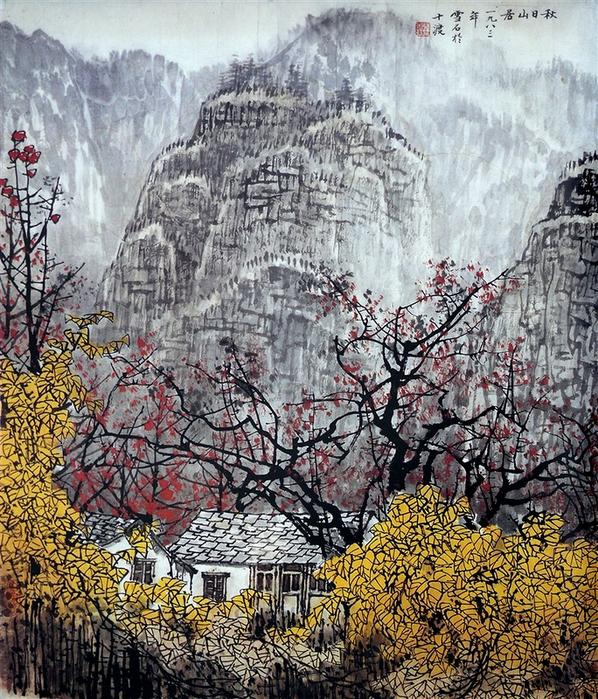




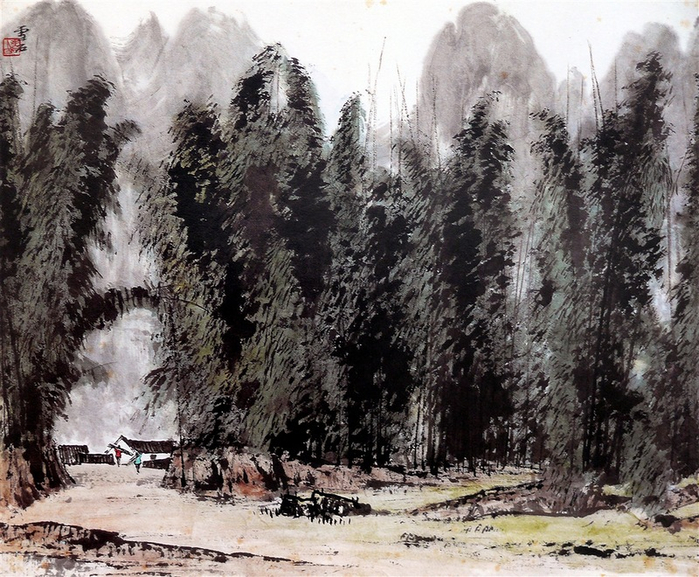

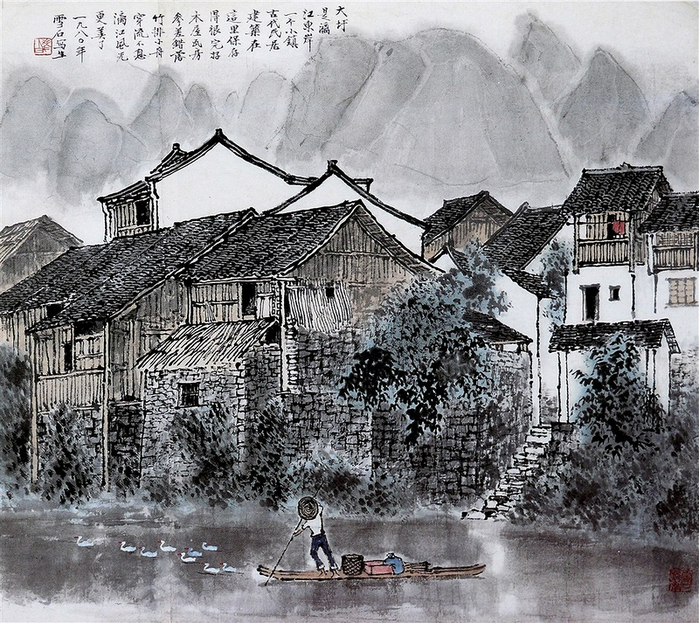

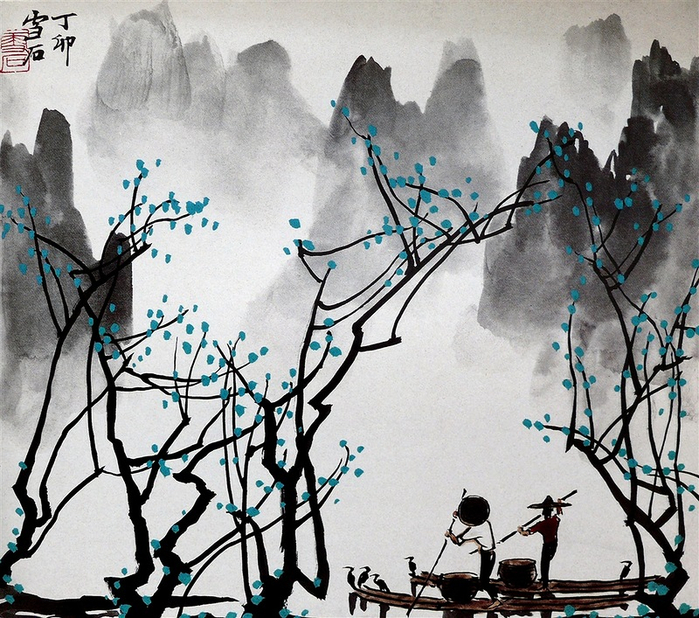


















































































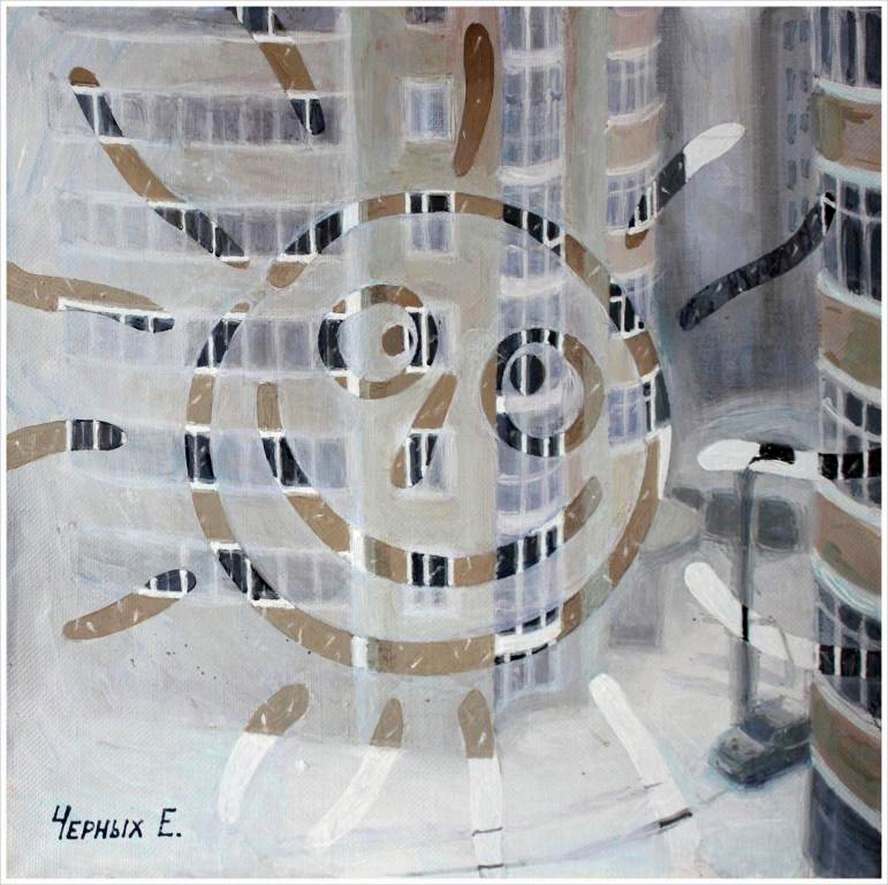
![[personal profile]](http://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/user.png)

